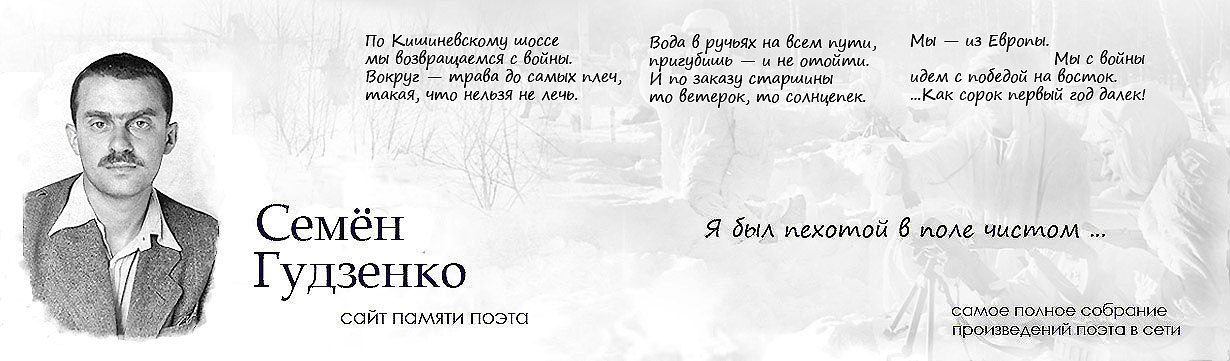Письмо Василия Петровича Рослякова С.П.Гудзенко
Письмо Василия Петровича Рослякова С.П.Гудзенко
(РГАЛИ, ф. 2207, оп. 1 е.х.179 – письма неустановленных лиц)
(л. 2-4 6/X-44). Милый мой гениальный Друг!
Ты мне простишь, как
прощала с передовой,
долго тебе не отвечал.
Дело в том, Сарик, что как только дело начинается, касается моих виршей, так мне стыдно. Высылать тебе неохота – всё жду, когда напишу что-нибудь стоящее, потому не отвечаю. Но сегодня решил угробить себя перед Тобой. Вышлю. Даже вышлю неоконченную дрянь. Дорогой! Ты прорвал оборону и повёл в наступление. Я же – перед атакой, состояние, когда говорят "на фронте ничего существенного не произошло", но идёт упорная борьба, поиски разведчиков, я весь собран, готовый к прыжку. Сейчас читаю книги, которые, кажется, все написаны мной. Болею повестью (помнишь, ты говорил "откровение"). Есть намерение, трудно сдерживаемое адской работой в редакции, написать кое-что стихами. "Ноктюрн" о "Первой ночи" о девушке Ане и ещё кое о чём.
Друг, посылаю Тебе незаконченную дрянь, из которой выпутаться не могу. Ты знаешь, друг, "станичный парень", хороший друг, которого мне пришлось в чёртовом бою пристрелить, струсил и поднял руки перед немцем – а был стойким, добрым. Но у нас партизанский обычай. Кончаться будет эпизодом чёртового боя, пристреливанием друга и что-то с письмом его девушки - "Девушка, не надо плакать" и т.д. Не ложь ли это? Милый Сарик! Вобщем, прошу Тебя, не суди по сим стихам обо мне – я не оторвусь от прошлого ученического неуклюжия, хотя чувствую внутреннюю силу, но, увы, приходится писать хронику, письма на фронт от колхозников, даже в стихах. Редко выпадают золотые минуты свободного времени, которым лишь успеешь насладиться, но не использовать, эти минуты, как вспышка магния, – мысль, мысль. Почему в наше время не пашут оды? Я бы написал оду мысли.
Дружище, высылаю тебе моё вчера, в котором невозможно ещё рассмотреть моё завтра – такая дрянь. Хватит, избичевал себя, кровь выступила на спине и карминовые рубцы засочились. Сарик, Ты удивишься – болтлив же? Почему. Только что (10 ч. вечера, на дворе дождь, первый день, первая ночь осени) прочитал в "Знамени" Эренбурга "Стихи солдата", и настроение такое велеречивое. Я говорил ведь, что так, как ты, никто не пишет. А он, старый мягконогий библейский медведь с пурпурным галстуком и умом Соломона, кое-что понимает. Получил письмо от Ласло из Будапешта, пишет о тебе, что Ты "расвиваешься". Рядом со мною девушка с совиными глазами – эавсельхозотделом (!). Читает о тебе статью и
"Когда на смерть идут,
поют"
как "мама мыла раму,
раму мыла мама".
Даже обидно. А всё же говорит "ничего, хорошие стихи", даже этот суперфосфатный кусок в подсиненной пуховой шапочке.
Комм! (кстати, теперь Комов) говорит, чтобы я Твои открытки берёг, на них будет, вернее, не будет цены, в дни банкротства можно будет загнать в музей.
Милый, скажу немножко о деле. Дорогой, я тебя сейчас не знаю, как-то мы не успели и поговорить. Мне, знаешь, кажется, что ты чересчур щедр на "капли крови", не экономишь густоту жизни, впечатлений, выкладываешь всю душу до конца, т.е. пишешь сплошь хорошие стихи. Всё накопленное бросаешь большими глыбами, не оставляя ничего себе "на развод". Не окажется ли, что все стороны своей души и виденного тобой уже осветил и больше нечего сказать. Так может не случиться при условии, если в тебе – бездонный кладезь, что всё, что у тебя в стихах, не запас, а рождённое каждую данную минуту, потому могущее с таким же успехом быть рождено и в любую другую минуту до бесконечности. Я верю в последнее, потому, серьёзно говорю: ты гений, я не боюсь этого слова, его не боялся Достоевский, считая себя (правда) гением, и стал таковым. Но я просто, как девушка, провожая в бой милого, говорит: "береги себя, милый". Так и мне: и – гордость, что вижу твои капли крови (а не воды), и – ой, поберёгся бы – ведь это же, правда, кровь, а не вода, твоя кровь, а её не так много. О! Её бесконечно много!
Сарик! Ты веришь, если бы и завтра и послезавтра не надо было итти в редакцию, отдать мне всё время – 24 часа – я не знаю, что сделал, – это, не слова школьника, – понимаешь, просто некогда поумнеть. Боже! А все-таки я буду писать книги!
Друг! Посылая тебе мои упражнения, я очень хорошо знаю твоё (уже) мнение о них. Я мог бы гадать, что скажет на них Симонов, Долматовский, потому, что мои могут с годами усовершенствоваться до Симоновских и Долмат., но никак не в твои. Ты пишешь не так, как они – лучше, по-другому. Ты оперировал нашу поэзию от навоза, от "захламленности", что у всех, с чего начал и я. Так, как ты, может писать или Ты, или человек – гениальный, противник советской поэзии вообще.
Нет, тут надо живым словом, жестом досказать.
P.S. Преклоним колена, целуем край солдатской шинели Гудзенко.
Ну, хорошо. Жду ответа. Целую. Василий.
6.Х.44 г.
P.S. Юрка, промокший первым осенним дождем, вернулся с вокзала, поезда нет (в командировку). Посылаю его пару стихов. Его фамилия Кочинов, запомни! Пригодится. Он тоже не хер огуречный. В.Р.
Привет от Комова и Батова.
Сарик, прости! Письмо противное, написал взахлёб и глупо, и безграмотно. Я просто нелепыми жестами… Ну, поймёшь! В.Р.